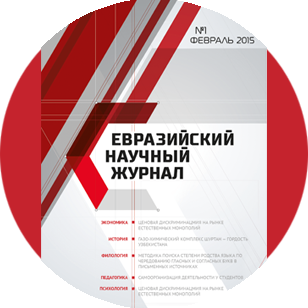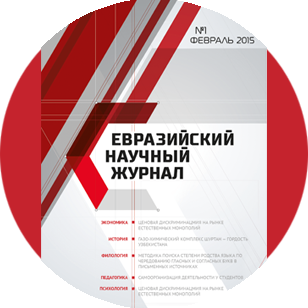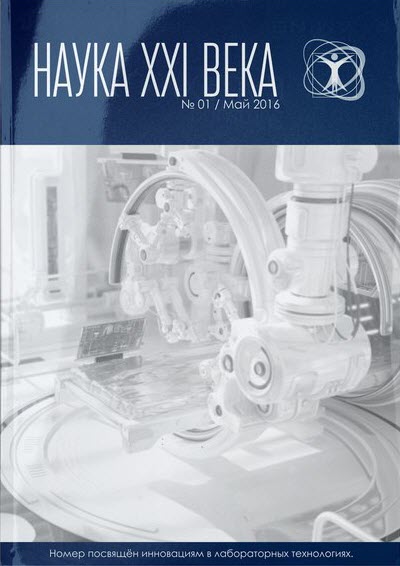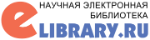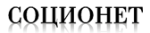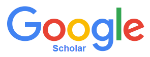Срочная публикация научной статьи
+7 995 770 98 40
+7 995 202 54 42
info@journalpro.ru
Правовой статус СМИ в уголовном процессе
Рубрика: Юридические науки
Журнал: «Евразийский Научный Журнал №1 2018» (январь, 2018)
Количество просмотров статьи: 1903
Показать PDF версию Правовой статус СМИ в уголовном процессе
Иблиев Руслан Лечиевич
Магистрант направления подготовки 40.04.01. "Юриспруденция"
ФГБОУ ВО "Чеченский государственный университет"
E-mail: kafedraupik@inbox.ru
Вследствие популяризации информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» расширились возможности массового обмена информацией. Электронные СМИ, обладая рядом преимуществ перед печатной продукцией, стали постепенно вытеснять ее, поэтому современный обмен массовой информацией стал переходить в поле интернет-пространства. Вместе с тем, появление электронных СМИ вызвало проблемы в правоприменительной деятельности по их правильному разграничению от иных сайтов сети «Интернет», не зарегистрированных в качестве сетевых изданий.
Несмотря на то, что в 2011 году правовой статус электронных СМИ был законодательно урегулирован, практическим работникам не всегда удается четко проводить грань между СМИ и иными средствами массовой коммуникации. Представляется, что для устранения данной проблемы необходима разработка разъяснения Пленума Верховного Суда РФ. В 2010 году Верховный Суд РФ выразил свою позицию по отдельным вопросам, связанным с применением Закона РФ от 27 декабря 1991 г. №
Журналистское расследование в различных исследованиях определяется как жанр, технология, метод деятельности. Некоторыми учеными отмечается, что именно форма отличает путь познания события преступления, осуществляемого субъектами «классического» или процессуального расследования, от расследования, проводимого иными лицами (журналистами, частными детективами и др.)
Рассматривая журналистское расследование как метод деятельности, автор анализирует составляющие данный метод способы и средства собирания сведений журналистом по принципу оценки допустимости доказательств: допустимы лишь те сведения, которые были получены журналистом законным способом. Вместе с тем, в журналистской среде существует проблема доступа к определенной информации, что приводит к использованию не всегда законных методов ее собирания. Автор предполагает, что вопрос о так называемой «допустимости» материалов СМИ должен решаться в зависимости от соотношения существенности допущенных нарушений с их информационной полезностью для нужд доказывания.
Одним из проблемных вопросов, связанных с законностью собирания сведений журналистом, является вопрос о допустимости использования в уголовном процессе результатов проведенной им скрытой записи. Автор пришел к выводу о существовании двух причин, объясняющих настороженное отношение правоохранительных органов к ее доказательственному потенциалу. Первая связана с тем, что в уголовном судопроизводстве, в отличие от журналистской деятельности, используется выработанный криминалистической наукой механизм применения средств фото- и видеофиксации информации, который придает уверенности в доброкачественности соответствующих записей, защищает от несанкционированного в них вмешательства. Журналистами данный механизм не используется, так как их цель заключается не в соблюдении формы собирания сведений, являющейся гарантией достоверности полученных сведений, а в фиксации самого факта.[1]
Вторая причина связана с проблемой соблюдения законности при применении скрытой записи журналистом. Автором формулируется вывод о том, что скрытая запись, проведенная журналистом, может использоваться в доказывании при соблюдении следующих условий: 1) на ней зафиксирована информация, имеющая значение для уголовного судопроизводства, и были соблюдены основания ее проведения, предусмотренные ст. 50 Закона «О СМИ»; 2) отсутствуют разумные сомнения в ее доброкачественности.[2]
Все вышеуказанное позволяет сделать вывод о том, что неоднозначная законодательная трактовка понятий «защита общественных интересов» (ст. 50 Закона «О СМИ») и «частная жизнь гражданина» (ст. 152.2 ГК РФ) создает предпосылки для «формально законных» злоупотреблений со стороны журналистов и должностных лиц правоохранительных органов в сфере получения информации. Поэтому, проанализировав практику Европейского суда по правам человека по вопросам разграничения «частного» и «публичного» интереса, автор предлагает внести изменения в ч. 2 ст. 152.2 ГК РФ и конкретизировать основания для ограничения частной жизни лица.
Литература:
- Рогова А. А. Опыт использования материалов СМИ в качестве повода для возбуждения уголовного дела: прошлое, настоящее, перспективы на будущее //Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. — Н. Новгород. № 1. 2014. С. 215.
- Кузнецова А.А. Материалы СМИ как особый вид непроцессуальной информации //Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. — Н. Новгород. 2015. № 1. С. 284.