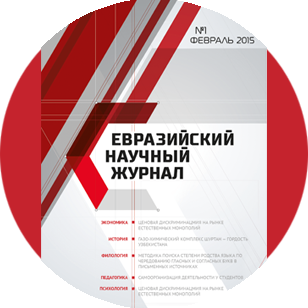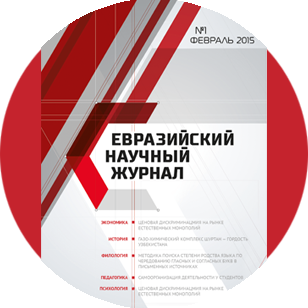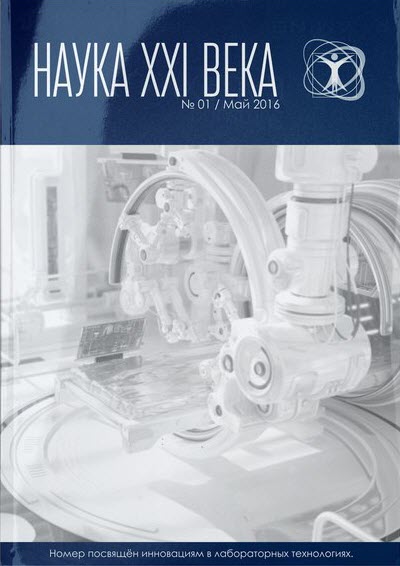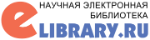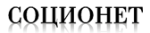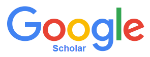Срочная публикация научной статьи
+7 995 770 98 40
+7 995 202 54 42
info@journalpro.ru
Элементы буддийской философии в прозаических произведениях И.А. Бунина
Рубрика: Филологические науки
Журнал: «Евразийский Научный Журнал №4 2018» (апрель, 2018)
Количество просмотров статьи: 3165
Показать PDF версию Элементы буддийской философии в прозаических произведениях И.А. Бунина
Смирнова Сабина
магистрант II курса
ТГПУ им. Низами,
г. Ташкент
На протяжении многих веков буддийские постулаты являлись источником вдохновения для ряда великих поэтов и писателей России. К этой древней религии обращались Л.Н. Толстой, К.Д. Бальмонт, Н.С. Гумилев и другие художники слова. Не стал исключением и И. Бунин, в творчестве которого буддийские мотивы занимают одно из центральных мест.
В различные периоды своей жизни И. Бунин опирался на положения буддийского вероучения при создании своей собственной концепции бытия мира и человека, рассмотрении важнейших для его миропонимания проблем жизни, любви, смерти, смысла существования.
В ранних рассказах Бунина заложены образы и антиномии, которые будут развиты им впоследствии: «день» и «ночь», «духовное» и «материальное» и др. На этом этапе мысли о жизни и смерти, о тайнах бытия — всё то, что мучает писателя своей неразгаданностью, — носит еще общечеловеческий характер. Но постепенно поиски его расширяются, наполняются духом иной культуры, иной философии.
Героями рассказов молодого Бунина часто становятся старики, странники, нищие, убогие люди — и это не случайно: ведь именно они подтолкнули легендарного основателя буддизма принца Гаутаму к поиску Истинного пути, в основе которого лежит Первая благородная истина о том, что человеческое бытие есть страдание. Страдание становится непременным атрибутом жизни практически всех героев рассказов Бунина
В рассказах «Братья», «Сны Чанга», «Соотечественник» Бунин затрагивает различные философско-этические аспекты восточно-буддийских вероучений и их преломление в сознании современника. Герои этих рассказов, признавая верность нравственных истин, изложенных в древнейших религиях, на себе ощущая «таяние», растворение в пространстве и пробуждение генетической Прапамяти, все же не готовы кардинально изменить свою жизнь, чтобы оказаться вне власти земных желаний. Едва ли не единственной, кто отважился на подобный шаг, оказывается индийская девушка Готами — героиня одноименного рассказа.
В самом начале зарубежного этапа своей жизни и творчества Бунин также обращается к теме буддийского Востока. В рассказе «Город Царя Царей» грусть по разрушенной святыне древнего Востока, по первозданному Эдему, безвозвратно утерянному человечеством, оказывается родственной тоске писателя по утраченной родине.
«Парадокс Бунина-ориенталиста, — высказывает интересную мысль П.И. Тартаковский, — состоял в том, что уход от социальных потрясений, чем в известной мере было его движение на Восток, привел поэта к художественным открытиям, содержавшим подчас зерна тех самых идей, борьба за которые, в сущности, и вызывала социальные столкновения у него на Родине» [1, с. 107]. Так или иначе, философские воззрения буддизма, близкие миропредставлению писателя не только тематически отражаются в его произведениях, но и присутствуют в его сознании, как определенная точка зрения на судьбу России. Интересен в этой связи и тот факт, что «навеянное восточной проблемой философское понимание мира, могло накладываться и на совсем не восточные сюжеты — на жизнь русской провинции („Чаша жизни“), на западный образ жизни („Господин из Сан-Франциско“)» [2, с. 31].
В рассказе «Чаша жизни» тема буддийского Востока уходит в подтекст, но при этом весьма ощутима и существенна. Само название рассказа придает ему значительную философскую глубину, что не позволяет считать его просто историей о жизни в российском уездном городке. «Чаша жизни» — символ, встречающийся в целом ряде религиозных учений и мифологических представлений, а также в некоторых художественных произведениях.
В объяснении символического значения, вкладываемого автором в название рассказа, не менее важными оказываются и буддийские ассоциации. «Чаша Будды» — это древнейший религиозно-философский символ буддизма. Заслуживает внимания и то обстоятельство, что число четыре — количество главных героев рассказа — также является священным буддийским символом, воплощением полноты и гармонии, тесно связанным с семантикой чаши. Учение о «Четырех Благородных Истинах» составляет этическую основу буддизма.
Судьбы четырех главных героев сопоставимы с основными путями жизненной самореализации, предусмотренными индуистской и буддийской традициями. Селихов олицетворяет путь «артхе» — накопления богатства, создания материальных ценностей. Путь Кира Иорданского задуман как путь «ума, строгости и учености», что в индийской традиции соответствует понятию «дхарма». Наибольшие симпатии Бунина вызывает путь юной Сани Диесперовой — «кама», воплощающий представления автора о природном, естественном женском начале, которое у девушки проявляется в жажде любви и счастья [3, с.
Почти во всех рассказах И. Бунина как бы воплощено недостижимое желание писателя — обратиться только к вечным вопросам бытия. Чувствуя в себе стремление освободиться от обольщений земной жизни, Бунин сам становился похожим на аскетов, когда он творил, работал. Г. Кузнецова отмечала, что «подобно буддийским монахам, йогам, всем вообще людям, идущим на некий духовный подвиг, И. Бунин, приступая к работе, начинал постепенно очищать себя. Старался более умеренно есть, пить, рано ложился, помногу каждый день ходил, в самые горячие рабочие дни изгонял со своего стола даже лёгкое вино» [4, с. 272]. Но художнику не удалось, в отличие от героев некоторых своих произведений, оторваться от земных тревог, от России, и быть до конца свободным в своём духовном полёте. Вечной и постоянной для него была тоска по родине и неотрывная принадлежность своей культуре, народу.
Литература
- Тартаковский П.И. Поэзия Бунина и арабский Восток// Народы Азии и Африки. — М., 1991.
- Бернюкевич Т.В. Буддийские мотивы в творчестве И. Бунина // История русской литературы XX века. Первая половина: В 2 кн. — Кн. 2: Personalia/ под общ. Ред. Проф. Л.П. Егоровой. — М.: Флинта, 2014.
- Смольянинова Е.Б. Буддийский Восток в творчестве И.А. Бунина: автореф. дис. ... канд. филол. наук. — СПб: Санкт-Петербургский гос. ун-т, 2007.
- Бабореко А.К. И.А. Бунин. Материалы для биографии с 1870 по 1917 год / А.К. Бабореко. — М.: Худ. лит., 1993.